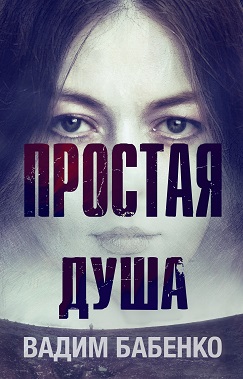-
Трейлеры
СЕММАНТ
ПРОСТАЯ ДУША
ЧЕРНЫЙ ПЕЛИКАН
Истории о книгах
"Я отложил в сторону все дела, включая только что начатый роман, и стал делать трейдера-автомата – тогда это как раз входило в моду. Вспомнив свое прошлое, двенадцать лет, отданные искусственному интеллекту, я стал создавать умнейшую компьютерную программу…"
-
"Я создал небольшую команду из бывших коллег-ученых – все они были с блестящим образованием, научными степенями и голодными семьями. Первые пять месяцев все шло неплохо, а потом нас заметили профессиональные мошенники…"
-
"Почти сразу я понял, что ощущаю страх – это было непривычно. В моем прошлом хватало вещей, которых следовало бояться, но я не боялся и всегда шел напролом. Тут же я по-настоящему оробел – мне казалось, что я теряю слишком много…"
Наш институт занимался новыми подходами к проблемам микробиологии. У нас работали серьезные ученые, регулярно публиковавшиеся в ведущих мировых журналах. Как только стало ясно, что зарплату больше платить не будут, начался массовый исход сотрудников – в США, Германию, Швейцарию, Японию, Францию... В течение двух месяцев институт опустел на две трети. Не уехали только те, кого держали в России личные причины. К числу таковых относился и я.
Нет, у меня не было ни больных родственников, ни запутанных проблем быта. Я просто не хотел покидать российское языковое пространство. Зная уже, что мое призвание – в литературе, несмотря на научные успехи, я решил, что мне пора писать прозу – мой первый большой роман. И я полагал: чтобы писать на русском, нужно остаться в привычной языковой среде.
Однако, мне нужно было на что-то жить – в институте не платили ни копейки. В тогдашней России заработать деньги можно было лишь, перепродавая что-то, ввезенное из-за рубежа – если не считать откровенного криминала. Торговля ширпотребом была не по мне; я выбрал самый абстрактный из товаров – деньги. Я стал сотрудничать с фирмой, наживавшейся на спекуляциях валютой.
То, что мы делали, не было противозаконно – в новой российской законности на этом месте просто зияла дыра. Я создал небольшую команду из бывших коллег-ученых – все они были с блестящим образованием, научными степенями и голодными семьями. Первые пять месяцев все шло неплохо, а потом нас заметили профессиональные мошенники. Заметили и – легко, изящно «подставили», подсунув «куклу» вместо настоящих денег. В результате, я оказался должен своим «работодателям» непомерную по тем временам сумму – около пяти тысяч долларов.
Эти деньги мне негде было взять – вообще. Впрочем, «работодатели» отнеслись ко мне хорошо. Они не прислали ребят с бейсбольными битами, а предложили «отработать» долг – собирая дань с коммерческих ларьков на Арбате, которые они «крышевали». Этим я заниматься не мог – и, убедив их подождать один месяц, стал искать путь к спасению.
Как ни странно, путь нашелся: в США я отыскал партнера, заинтересовавшегося технологией, которую я разрабатывал последние два года. Мы решили открыть совместный бизнес, и, каким-то нечеловеческим усилием, я убедил его прислать мне денег в счет моей будущей доли. Эта сумма составляла почти десять процентов нашего тогдашнего «капитала», который мой партнер насобирал по знакомым. Тем не менее, он пошел на риск – впоследствии это оказалось самым правильным решением его жизни.
И вот, отдав долги и наскоро закончив российские дела, я стоял в очереди на таможенный досмотр в аэропорту Шереметьево. Шел ноябрь 1992-го. Я был полностью разочарован и в России, и в своем заброшенном романе. Действительно, писать прозу мне было еще рано. А страна, на моих глазах, стремительно превращалась в место, где царили одни лишь животные инстинкты. Все худшее, что есть в человеке, лезло наружу и правило там бал. Те, кому это было не по вкусу, могли лишь убраться восвояси.
Таможенник, молодой и наглый, небрежно порывшись в моей сумке, вдруг сделал стойку и заблестел глазами. В его руках оказалась пачка дискет, на которых было все – мои программы, расчеты, презентации и т.п. «Не положено! – заявил он с усмешкой. – Запрещено к вывозу! Конфискуем».
Я знал, что он врет и вымогает взятку, но был беспомощен – его начальники были далеко, а самолет не стал бы ждать. Да и, к тому же, таможенное начальство наверняка придралось бы к чему-то еще, чтобы таким, как я, было неповадно настаивать на своих правах. Я слышал множество историй на эту тему; у меня не было иллюзий.
Мы с таможенником отошли в сторону. Он заставил меня вывернуть карманы, потом залез в бумажник и забрал все мои наличные деньги, оставив только мелочь на кофе.
На эскалаторе, поднимаясь к выходу на посадку, я решил, что никогда – НИКОГДА! – не вернусь в эту страну.
Мы наняли много новых сотрудников. Они разделились на две, почти равные части: американскую, занятую в маркетинге и продажах, и русскую, развивавшую наши технологии. Между этими двумя половинами создалось напряженное, где-то даже враждебное противостояние.
Почти вся русская часть состояла из программистов, вывезенных из России. Вся американская – из хватких парней, поработавших в успешных хай-тек корпорациях. Это были очень полярные сообщества. Медиатором между ними выступал я – исторически сложилось так, что я занимался всей внутренней жизнью фирмы, а мой партнер – всей внешней.
Маркетологи и сейлсы не любили программистов за их «дикость» – полное отсутствие умения общаться, привычного для американской компании. Программисты недолюбливали наших американцев, чувствуя, что те относятся к ним с презрением, как к недостаточно цивилизованным людям. Должен признать, с программистами и мне было трудно – я к тому времени весьма отдалился от российских привычек и манер. Тем не менее, положение обязывало, и я, как мог, пытался примирить эти сообщества друг с другом.
Когда программистов приехало много, и создалась некоторая критическая масса, я вдруг почувствовал, что мое отношение к ним изменилось. Я совершенно определенно ощутил, что в российской части нашей фирмы воссоздается и распространяется вокруг что-то неуловимо-светлое-русское, какой-то специфический российский дух вечных времен, который когда-то был мне так близок. Я был уверен, что он изжит, уничтожен, растоптан годами «перестройки». Почти все программисты были молодыми людьми, взрослевшими в 90-е годы, когда в России наблюдался страшнейший упадок всего духовного. Тем не менее, я понял, что почти все осталось – пусть и замаскированное налетом новых времен.
А затем я заметил, что две «полярные» половины стали вовсе не так враждебны. В них зародился интерес друг к другу – сам по себе, мои усилия не сыграли заметной роли. Что касается программистов, это было естественно: попривыкнув, перестав пугаться и стесняться, они, так или иначе, стали познавать страну, в которой теперь жили. Но и американцы, не имея казалось к этому никаких причин, тоже стремились познать что-то – чувствуя, подобно мне, что в русской части компании это «что-то», достойное усилий по его познанию, действительно существует. Все чаще мне стали задавать вопросы о России, о российской жизни, культуре и проч. Все чаще американские и русские сотрудники вели беседы, несмотря на языковый барьер. Мы даже стали устраивать «русские вечеринки» с большим количеством водки – ставшие очень популярными среди американцев...
Я признал: мое представление о стране, в которой я вырос и которую покинул, однобоко и не совсем верно. Звериные инстинкты, выпущенные наружу в начале 90-х, не смогли задушить что-то главное, что присуще этой земле и ее людям. Тем не менее, я все еще был далек от мысли побывать там вновь – даже в коротком отпуске.
Я его почувствовал. То самое «неуловимое нечто», которое привезли с собой в Вашингтон русские программисты, присутствовало и здесь. Инвариант российского духа, практически не изменившийся за сверх-бурные пятнадцать лет, был идентифицируем – для тех, кто озадачивался его обнаружением. Было ли его присутствие заметно для других – не знаю. Может и было, но я видел, что ему – инварианту духа – непросто. Он здесь не главный, и не все его любят.
Я задержался в Москве на месяц. Даже устроился инструктором в теннисный клуб – из любопытства и исследовательского интереса. Скоро мне стало ясно: «неуловимое нечто» ведет отчаянную борьбу без долгосрочных шансов. В Москве – с зарождающимся, нахрапистым и жизнестойким обществом потребления, имеющим устойчивые приоритеты. В провинции – с равнодушием и душевной усталостью, с привычным отчаянием людей, полтора десятилетия унижаемых властью.
Это было противостояние талантливых, думающих людей и серой массы, ненавидящей всякую неординарность. Борьба удивительной внутренней доброты, какого-то точнейшего душевного зрения и бесцеремонного хамства, жлобства, презрения к человеческой личности. Я подумал, что должен написать об этом в свое время. Тогда – в 2000 – я был еще не готов.
Я стал бывать в России каждый год – в Москве, в провинции, в разных ее концах. И каждый год там становилось все хуже. Сытнее, богаче – но скучнее и беспросветней. Хамоватая масса уверенно наступала. Правящий режим – режим беспредельной серости – подминал под себя все. Я еще сильнее почувствовал, что должен об этом написать – пока «неуловимое нечто» не исчезло совсем.
Когда книга была написана и вышла на русском языке, на меня посыпались упреки. Меня обвиняли во всех грехах – особенно, в том, что я написал об этой стране, не живя в ней. Винили в пристрастном взгляде ностальгирующего иммигранта, в попытке создать образ России «на экспорт». Я не оправдывался и ничего не объяснял. Я знал, чего я хотел, чего смог и не смог добиться. Знал, что уловил и облек в слова лишь малую малость того настоящего, что еще оставалось в великой стране. Многое не далось мне, ускользнуло, как и от всех других. Но, по крайней мере, я попытался.